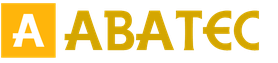"Хочешь рассмешить Господа Бога — расскажи ему о своих планах", — гласит поговорка. Действительно, порой даже тщательно продуманные, "верные" перспективы срываются в связи с непредвиденными обстоятельствами. Или… человек сам отказывается от намеченного. Оказывается, еще в прошлом столетии этот феномен привлек внимание многочисленных исследователей.
Казалось бы, что-то наметив (купить машину или дом, поехать в отпуск за границу, вступить в брак, начать бизнес), логично поведать об этом друзьям и знакомым, чтобы они нас поддержали и порадовались за нас. Однако еще в 1933 году зарубежные психологи выяснили, что, чем большему количеству людей мы поведаем о своих намерениях, тем меньше вероятность, что они будут воплощены в жизнь.
В чем же тут фишка? Если мы рассказываем о своих планах заранее, это в нашем подсознании становится свершившимся фактом, считает исследовательница Вера Малер. А раз цель подсознательно уже достигнута, то, соответственно, у индивида снижается мотивация.
Профессор психологии Нью-Йоркского университета Питер Голлуитцер затронул эту тему еще в 1982 году в своей книге "Символическое самозаполнение". Не так давно он провел ряд исследований, в которых приняли участие 63 человека. Оказалось, что люди, которые не делились своими планами с другими, выполняли их с большей вероятностью, чем те, кто публично рассказывал о них и получал одобрение и поддержку окружающих.
Профессор Голлуитцер полагает, что рассказ о своих намерениях дает нам "преждевременное чувство завершенности". В нашем мозгу присутствуют так называемые "символы идентичности", которые помогают нам составить представление о самих себе. Чтобы такой символ возник, достаточно не только действий, но и просто разговоров о них. Предположим, вы рассказали о своем намерении написать диссертацию и представили себя кандидатом или доктором наук. Мозг удовлетворился этой игрой воображения, и у вас исчезает стимул делать что-то для достижения этой цели — поступать в аспирантуру, искать научного руководителя, сидеть в библиотеке, собирая материал, и проч.
В ходе еще одного исследования ученые пришли к выводу, что, достигнув успеха в решении одной задачи, мы часто перестаем прилагать усилия к решению других задач, подчиненных той же цели. Так, желая похудеть, мы понимаем, что для этого нужно сидеть на диете и заниматься спортом. Но если нам удается радикально изменить свой образ питания, то мы можем забросить спортивные упражнения.
До сих пор мы говорили о вещах, которые зависят лично от человека и его действий. Но бывает, что в нашу судьбу вмешиваются совершенно посторонние факторы. Допустим, человеку предложили хорошую работу и он уже собирается увольняться со старого места. И вдруг в компании, которая обещала его взять, резко меняется ситуация и такой специалист уже не нужен… Или девушка собирается замуж, но в последний момент жених берет свое предложение назад, или она узнает о нем что-то, что делает брак невозможным… Или вы долго планировали отпуск на заграничном курорте, копили деньги, а тут либо на работе возник форс-мажор, либо тяжело заболел кто-то из родных, и все пришлось отложить…
И ведь, как правило, такие ситуации происходят именно тогда, когда мы ставим других в известность о предстоящих переменах и событиях!
Парапсихологи считают, что это неспроста. Рассказывая о наших желаниях и намерениях, представляя их в деталях, мы реализуем их в каком-то ином измерении, а в этом они "сворачиваются". Нельзя исключать также "сглаза": вы рассказали кому-то о том, что собираетесь делать, человек позавидовал или мысленно пожелал вам неудачи — и что-то случилось… Поэтому многие люди стараются вообще ни с кем не делиться своими планами, особенно важными. Правильная ли это тактика? Вот что советуют психологи.
Свои жизненно важные планы следует хранить втайне по крайней мере от большинства людей. Можно рассказать о них лишь самым близким, предупредив их, чтобы держали язык за зубами. Будет лучше, если остальные узнают об этом "постфактум". К тому же, если планы все-таки не сбудутся, вы избежите лишних объяснений.
Не всегда стоит говорить о своих планах как о деле решенном. Если уж нельзя скрывать, преподносите это как раздумья о будущем: "А вот я думаю, не открыть ли мне свое дело?"
Можно и нужно рассказывать о своих целях и намерениях, если для их осуществления вам требуется помощь окружающих. Но, разумеется, речь должна идти только о людях, которым вы доверяете и кто гарантированно не будет ставить вам палки в колеса (даже мысленно).
Никогда не следует быть стопроцентно уверенным в том, что все будет так, как вы задумали: человек предполагает, а бог располагает. Поэтому крах ваших планов не должен стать для вас трагедией. Всегда есть новые возможности и новые пути.
Владимир Познер - человек необычной судьбы. В 15 лет он впервые заговорил по-русски, а в 70 стал бесспорным лидером российской телевизионной журналистики. Телевизионное интервью с Владимиром Познером в программе Светланы Иванниковой и Игоря Пронина “Бальзам на душу” смотрите в эту субботу в 20.30 и в это воскресенье в 11.30 на LTV -7.
Нет ничего интереснее человеческого мозга
Как вас принято называть? Владимир или все-таки Владимир Владимирович?
- Вы знаете, это зависит, прежде всего, от страны, в которой ты находишься. В России постепенно все больше переходят на американский лад и тоже называют без отчества. Хотя мне отчество нравится. Потому что оно дает возможность детализировать отношения. Можно сказать: “Владимир Владимирович - вы”, можно сказать: “Владимир Владимирович - ты”, можно сказать - “Владимирыч”. Мне нравится такая русская придумка, она мне по сердцу. Но когда незнакомый человек, намного меня моложе, звонит и говорит “Владимир”, я обычно добавляю: “Владимирович”.
- Вас готовили к дипломатической карьере?
- Ну, что вы, никогда. Во-первых, я долго не знал, что я русский. Мы жили за рубежом: папа уехал из Советской России, когда ему было всего 14 лет, в 1922 году он эмигрировал с родителями. И я довольно поздно узнал, что на самом деле он русский. И представления не имел, что есть имя-отчество, это все позже пришло. Нет, меня ни к чему не готовили. Единственное, что папа меня просил не делать, это ни в коем случае не заниматься кино. Он сам работал в кино, в американской компании MGM
, и всегда говорил мне, что хуже кино нет ничего. Там все друг друга ненавидят, все страшно важные, надутые, напыщенные, абсолютно эгоманиакально концентрированные на себе. И я никогда кино и не занимался, впрочем мне это было и неинтересно.
- А телевидение не имеет ничего общего с кино?
- Я считаю, что телевидение ничего общего с кино не имеет, особенно то, чем я занимаюсь. Политическая журналистика это совсем не кино.
- Как вы пришли к этой профессии?
- Ну что вы… Я сначала думал, что буду биологом, физиологом, что буду открывать тайны мозга, что завершу то, что начал Иван Петрович Павлов. Я и до сих пор считаю, что нет ничего таинственнее и интереснее, чем человеческий мозг. Я в этом абсолютно убежден. Просто уже где-то на третьем курсе университета понял, что я не ученый, что у меня не тот склад ума, что это не мое. И слава Богу, что хватило в то время мужества, что ли, или глупости, закончив все-таки университет, отказаться от науки.
Это очень огорчило моих родителей, которые думали, что у них будет сын-ученый, такого в семье не было. А я в то время решил, что буду переводчиком, буду замечательно переводить английскую поэзию, поэтов елизаветинского времени, то есть первой четверти XVII
века. Я очень увлекался переводом и благодаря этому близко познакомился с Маршаком, изумительным человеком, у которого проработал два года.
А потом совершенно случайно мне позвонил приятель и сказал, что организуется Агентство печати и новостей и они ищут людей со знанием языков. К тому времени я понял, что переводчиком я все-таки не буду, разве что для себя, для удовольствия, но не так, чтобы всю жизнь заниматься только этим. Так я отправился в АПН, и вот с этого началась журналистика, но сперва печать, потом радио и только потом телевидение.
Сдержанность как часть профессии
Может, имело смысл пойти в кино? Все-таки политическая журналистика в России на сломе веков - совсем не сладкое занятие.
- Может быть. Меня приглашали сниматься, я в молодости, говорят, был довольно внешне недурен. gorodМеня приглашал Марлен Хуциев в свой знаменитый фильм “Застава Ильича”, но я отказался наотрез. Приглашали в театр, в “Современник”, играть в спектакле “Двое на качелях”. Я вообще, как Маргарита в “Мастере и Маргарите”, обожаю мастерство. А мастерство бывает только у профессионалов. Все вот эти любительские дела - это не мое. Дома - прекрасно, но когда любитель начинает всерьез заниматься чем-то, у меня это вызывает чувство, близкое к ненависти.
- Ваше чувство, близкое к ненависти, чем бы оно ни было вызвано, вероятно, всегда очень тщательно скрывается. Для многих вы символ сдержанности и спокойствия.
- Что касается работы, безусловно. Это стиль поведения, я стараюсь быть сдержанным и уравновешенным.
- Такой стиль поведения должен сильно помогать вам, с тем же “ТЭФИ”. Как вам работается в Академии российского телевидения?
- Сложно. Не мне вам
говорить, что телевидение очень конкурентная среда. И поэтому все друг друга любят нежно. Зависти очень много, недоброжелательности. И это, конечно, сказывается. С этим трудно справиться, но тем не менее Академии вот уже 10 лет, и
“ТЭФИ” - уже признанный национальный приз. Далось все нелегко, но мы сделали то, чего добивались. А то, что внутри свои тараканы, ну да ничего не поделаешь.
Время, когда не надо будет переводить
- Владимир Владимирович, а почему вы переводили только с английского? Ведь французским вы тоже владеете.
- Я просто гораздо больше люблю английскую поэзию, нежели французскую. И вообще считаю, что у французов поэтов крайне мало, либо очень старые - Ронсар, предположим. Есть, конечно, Бодлер - замечательный поэт, или Верлен, но это, пожалуй, и все. Плеяда английских поэтов начинается с Шекспира, если мы говорим о его сонетах, ну и дальше: Джон Донн, Шелли, Китс, Байрон, Броунинг. Очень много. Что касается прозы, это вопрос другой. У французов, конечно, изумительная литература, но меня влекла именно английская поэзия.
- Достаточно ли слов в русском языке, чтобы выразить эту поэзию?
- Во-первых, нет такого языка, у которого нет достаточных средств для того, чтобы выразить что-то. Другое дело, что никогда и ни при каких обстоятельствах ваш перевод не сможет адекватно дать то, что есть в оригинале. И в этом трагедия. Потому что оригинал - он и есть оригинал, и он будет оригинал. И никогда ничего с этим не сделаешь. А перевод устаревает. Язык движется вперед, меняется. Вы попробуйте почитать переводы, очень причем недурные переводы, Щепкиной-Куперник. Вы поймете, что это уже не тот язык. Бывают переводы такого масштаба, что вроде бы уже к этому второй раз не подойти, но это неверно. Язык перевода устаревает. Не говоря уже о том, что он все равно передает, если вам очень повезло, процентов 70-75 первоначального смысла.
- Может быть, мы придем к такому времени, что будем переводить с русского на русский?
- Может быть, мы вообще придем к такому времени, когда не надо будет переводить. Когда люди будут все-таки знать такое количество языков, когда, по крайней мере, великие языки великих литератур (а их не так-то много) будут более доступны.
- Как вы с вашей любовью к Шелли, к Китсу нашли свое место в современной Москве?
- Все это произошло не в одночасье. Шелли я полюбил очень давно. И в квартире, в которой сейчас живу, живу, между прочим, с 1975 года. Но если вы имеете в виду, что деньги и любовь к Шелли плохо совмещаются, то я полагаю так, что если твоя цель в жизни это деньги, тогда, наверно, да. Многое другое отпадает, кажется вторичным и так далее. Моя цель никогда не была таковой. Другое дело, что я считал и считаю, что особенно в нынешнем мире, в российском мире, без денег не прожить и, более того, надо иметь их определенное количество, чтобы чувствовать себя спокойно. За эти годы я семь лет проработал в Америке, написал там бестселлер, который принес мне, в общем, довольно много денег, и таким образом сумел себя обеспечить. Я далек от олигархического состояния, мягко говоря, но я могу себе особенно ни в чем не отказывать и жить так, как я люблю жить, то есть путешествовать, ходить в мои любимые музеи, читать мою любимую литературу. И если я вдруг захочу завтра взять и улететь в Париж, просто потому что захотелось в Лувр, я могу это сделать. И это благодаря тому, что я могу купить себе билет. Я на деньги смотрю как на инструмент, который позволяет человеку делать то, что он хочет. А если деньги самоцель, а такие люди есть, для которых деньги самоцель, ну это другая жизнь. Я ее не осуждаю, просто это не мое.
Это, конечно, любовь
У вас второй брак. Удачный?
- Учитывая, что этому браку уже 35 лет, то да, он замечательно удачный.
- По расчету или по любви?
- Вы знаете, вообще-то говоря, первый мой брак, который длился почти 10 лет, развалился, на мой взгляд, очень трагически и очень тяжело и для моей первой жены, и для меня - рвало сердце, как говорится. Мы остались близкими людьми, просто не получилось по ряду причин. Вскоре после того, как это произошло, я встретил свою нынешнюю супругу и, вообще-то говоря, на этом стыке я бы никому не советовал опять жениться. Надо время, чтобы отойти от того, что было, и как-то найти равновесие. Но так случилось, что, когда я ее увидел, она меня совершенно поразила. Тогда не было, конечно, мысли, что это моя будущая жена, но она врезалась мне в память. И через два года после того расставания мы стали жить вместе. Это, конечно, любовь, что же еще.
- Ваша семья, кроме вашей супруги, это еще и ваша дочь…
- Это дочь от первого брака, Катя. Она композитор и пианист. Но живет, к моему большому сожалению, в Берлине. Сожаление двойное. Во-первых, она не рядом, а я очень скучаю по Кате. И во-вторых, потому что в течение многих лет я Германию ненавидел. Я военный ребенок и очень хорошо помню оккупацию в Париже, помню, что такое нацизм, помню, как отец показывал мне документальные ленты с Нюрнбергского процесса, снятые в концлагерях, в том числе и самими немцами. И из всех стран, куда бы мне не хотелось, чтобы моя дочь уехала, конечно, Германия была на первом месте. Но вы знаете, англичане говорят так: “Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах”. Она уехала в Германию с мужем, там разошлась с ним через некоторое время, но осталась жить в Берлине. И, в общем, ей там хорошо. Особенно хорошо, поскольку все-таки в Германии культура музыки, классической музыки, очень высока. Так что она там преуспевает и как пианист, и как композитор.
- Ваша мама многое дала вам в этой жизни?
- Это особый разговор для меня. Она была такая миниатюрная женщина, француженка, родившаяся в разорившейся аристократической семье. Аристократизм, правда, относительный, потому что баронство было подарено Наполеоном, то есть это был не то чтобы очень древний род. Она была человеком очень сдержанным, немногословным, очень сильным. Она была однолюб: вот полюбила моего папу, и все. И хотя первые пять лет моей жизни я отца не знал, потому что он не очень меня хотел, и мама взяла меня и уехала от него. И через пять лет он за ней приехал. Мог бы не приехать. Внешне мама была чрезвычайно приятная, я бы сказал, красивая. Больше всего на свете любила своих детей - меня и моего младшего брата. Но никогда ничего особенного о своей любви к нам не говорила. Когда пора было идти спать, она подставляла щечку для поцелуя. Я даже не помню, чтобы она меня обнимала, только когда я был совсем маленький. Но я помню, когда мне было четыре года, она в первый раз стала мне читать перед сном “Приключения Тома Сойера”. Я, наверно, не знал, насколько она для меня важна и насколько я ее люблю, пока она не ушла. Я думаю, для многих это так. Я родился в день ее рождения, в День дурака, 1 апреля, так что я был своеобразным подарком. На самом деле она научила меня очень многому. Она научила меня вести себя, ценить хорошую еду и вообще привила мне вкус к одежде, к музыке, к красивому, она научила меня готовить. Но все это как бы не уча, как бы между прочим. И конечно, то, что мы с братом открыли маленький французский ресторанчик в Москве и назвали его в ее честь - “Жеральдин”, это совершенно логично. Она прожила непростую жизнь, потому что когда папа привез ее, очень буржуазную все-таки даму, из очень обеспеченной Америки в Советский Союз в 1950-х годах, это был культурный шок, передать который словами вообще невозможно. Для нее осталась только семья. У нее были здесь друзья, но это была абсолютно ей чужая страна, и не потому что она плохая, или коммунистическая, или какая-то еще, а потому что по всему это была чужая ей страна. К счастью, начиная с 1968-го, она могла ездить раз в два года во Францию, так что это немножко скрасило ей жизнь.
Уроки Звейниекциемса
Есть у вас какие-то особые воспоминания о Латвии?
- Я в свое время довольно много ездил и в Литву, и в Латвию, и в Эстонию. С Латвией у меня связаны интересные воспоминания. Когда я расходился с моей первой женой и находился в очень тяжелом состоянии, я уехал в рыболовецкую деревню под Ригой - Звейниекциемс. Я приехал туда, ничего не зная, подошел к первому дому, из которого вышел человек, такой подтянутый, военного телосложения, и спросил, нельзя ли снять у него комнату. На что он сказал: “Русским не сдаем”. Тогда я быстро перешел на немецкий, и мы с ним тут же договорились. Потом выяснилось, что он отсидел 10 лет в Сибири и, когда началась война, был с немцами, стрелял в советских. Жена его была гигантская белокурая дама, которая хохотала так, что весь дом трясся, и угощала таким особенным блюдом - сметана с огурцами и с селедкой, которое я терпеть не мог, но делал вид, что очень вкусно. Каждый день я уходил на маленьких траулерах в море на ловлю, и потом мы вместе коптили угря и выпивали. Люди были неразговорчивые, надо сказать. Самый болтун говорил, может быть, три слова в час. Мало говорили, много пили. Но вы знаете, за этот месяц я как-то успокоился. Мне с ними было хорошо. Может быть, с тех пор я очень хорошо понимаю настроение Прибалтики, очень хорошо знаю историю. Когда удивляются, за что не любили русских, я говорю: “А за что любить-то?” Так что к Балтии у меня слабость.
"Хочешь рассмешить Господа Бога - расскажи ему о своих планах", - гласит поговорка. Действительно, порой даже тщательно продуманные, "верные" перспективы срываются в связи с непредвиденными обстоятельствами. Или… человек сам отказывается от намеченного. Оказывается, еще в прошлом столетии этот феномен привлек внимание многочисленных исследователей.
Казалось бы, что-то наметив (купить машину или дом, поехать в отпуск за границу, вступить в брак, начать бизнес), логично поведать об этом друзьям и знакомым, чтобы они нас поддержали и порадовались за нас. Однако еще в 1933 году зарубежные психологи выяснили, что, чем большему количеству людей мы поведаем о своих намерениях, тем меньше вероятность, что они будут воплощены в жизнь.
В чем же тут фишка? Если мы рассказываем о своих планах заранее, это в нашем подсознании становится свершившимся фактом, считает исследовательница Вера Малер. А раз цель подсознательно уже достигнута, то, соответственно, у индивида снижается мотивация.
Профессор психологии Нью-Йоркского университета Питер Голлуитцер затронул эту тему еще в 1982 году в своей книге "Символическое самозаполнение". Не так давно он провел ряд исследований, в которых приняли участие 63 человека. Оказалось, что люди, которые не делились своими планами с другими, выполняли их с большей вероятностью, чем те, кто публично рассказывал о них и получал одобрение и поддержку окружающих.
Профессор Голлуитцер полагает, что рассказ о своих намерениях дает нам "преждевременное чувство завершенности". В нашем мозгу присутствуют так называемые "символы идентичности", которые помогают нам составить представление о самих себе. Чтобы такой символ возник, достаточно не только действий, но и просто разговоров о них. Предположим, вы рассказали о своем намерении написать диссертацию и представили себя кандидатом или доктором наук. Мозг удовлетворился этой игрой воображения, и у вас исчезает стимул делать что-то для достижения этой цели - поступать в аспирантуру, искать научного руководителя, сидеть в библиотеке, собирая материал, и проч.
В ходе еще одного исследования ученые пришли к выводу, что, достигнув успеха в решении одной задачи, мы часто перестаем прилагать усилия к решению других задач, подчиненных той же цели. Так, желая похудеть, мы понимаем, что для этого нужно сидеть на диете и заниматься спортом. Но если нам удается радикально изменить свой образ питания, то мы можем забросить спортивные упражнения.
До сих пор мы говорили о вещах, которые зависят лично от человека и его действий. Но бывает, что в нашу судьбу вмешиваются совершенно посторонние факторы. Допустим, человеку предложили хорошую работу и он уже собирается увольняться со старого места. И вдруг в компании, которая обещала его взять, резко меняется ситуация и такой специалист уже не нужен… Или девушка собирается замуж, но в последний момент жених берет свое предложение назад, или она узнает о нем что-то, что делает брак невозможным… Или вы долго планировали отпуск на заграничном курорте, копили деньги, а тут либо на работе возник форс-мажор, либо тяжело заболел кто-то из родных, и все пришлось отложить…
И ведь, как правило, такие ситуации происходят именно тогда, когда мы ставим других в известность о предстоящих переменах и событиях!
Парапсихологи считают, что это неспроста. Рассказывая о наших желаниях и намерениях, представляя их в деталях, мы реализуем их в каком-то ином измерении, а в этом они "сворачиваются". Нельзя исключать также "сглаза": вы рассказали кому-то о том, что собираетесь делать, человек позавидовал или мысленно пожелал вам неудачи - и что-то случилось… Поэтому многие люди стараются вообще ни с кем не делиться своими планами, особенно важными. Правильная ли это тактика? Вот что советуют психологи.
Всем известно, что Вуди Аллен не только режиссёр-постановщик, но также сценарист и актёр, зачастую исполняющий главную роль в своих фильмах.
В последнем случае этот невзрачный, щуплый, теряющий решительность в самый ответственный момент очкарик приковывает внимание аудитории, даже если рядом с ним – кинозвезда мирового масштаба. Потому что его герои, своим неподражаемым чувством юмора и непринуждённой манерой сыпать колкости и остроты, дадут сто очков вперёд любой знаменитости.
Именно Аллен считается создателем жанра «интеллектуальной комедии», в которой серьёзность затрагиваемых тем уживается с насмешливой и иронической формой. Ему принадлежат такие проницательные изречения, ставшие афоризмами, как, например, "хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах", или "единственный способ стать счастливым - полюбить страдания". На основе многочисленных сценариев, интервью, выступлений на пресс-конференциях можно составить многотомный сборник цитат, шуток и афоризмов гениального Вуди. Мы предлагаем вспомнить некоторые из них.
"Не могу в это поверить. Мой доктор сказал, что я встану на ноги через пять дней. Он ошибся на 199 лет!"
"Спящий", 1973

"Знаете старый анекдот? Две пожилые женщины в пансионате в Кэтскилльских горах. Одна говорит: "Еда здесь просто ужасная". Другая отвечает: "Да, я знаю. И к тому же порции такие маленькие!" По существу, я так же воспринимаю жизнь: одиночество, неприятности, страдания, несчастья. И всё слишком быстро заканчивается."
"Энни Холл", 1977

"Язвительная статья в журнале это хорошо, но кирпичи и биты гораздо доходчивее."
Манхэттен, 1979

"Для тебя я атеист. Для Бога - лояльная оппозиция."
"Звездные воспоминания", 1980

Микки: Если Бог есть, почему в мире так много зла? Откуда нацисты?
Отец: Откуда я, чёрт возьми знаю, откуда нацисты – я не знаю, как действует открывалка!
"Ханна и её сёстры",1986

"Шоу-бизнес это грызня собак. Это хуже, чем грызня собак. Это, когда одна собака не отвечает на звонки другой, которая напоминает мне... Я должен проверить свой автоответчик."
"Преступления и проступки", 1989

"Я думаю, что все должно вернуться к тому факту, что у меня было очень тревожное детство. У моей матери никогда не было времени для меня. Знаете, когда вы... Когда вы средний ребенок в пятимилионной семье, вы не получаете никакого внимания."
"Муравей Антц", 1998

Дорис: У тебя нет ценностей. У тебя всё нигилизм, цинизм, сарказм и оргазм.
Гарри: Эй, во Франции я мог бы баллотироваться на должность с этим лозунгом и победить!
"Разбирая Гарри", 1998

"Вы очень сексуальны даже несмотря на то, что в определенном ракурсе похожи на Бенито Муссолини!"
"Тайна нефритового скорпиона", 2001

"Я услышал крики. Доел булочки, допил кофе и сразу примчался!"
Сбросить вес. Выучить английский. Бегать каждое утро. Каждый раз, когда мы ставим новую личную цель, мы делимся этой новостью с друзьями, родителями и коллегами по работе. Мы говорим им, что собираемся сделать то-то и то-то. Или радостно сообщаем, что уже начали это делать.
Затем, в 95 % случаев, получается так, что начатое не доводится до конца. Почему же нельзя заранее говорить о своих планах? И почему чаще достигаются цели, о которых мы никому не рассказываем?
Немецкий профессор психологии Питер Гольвитцер изучает данный феномен уже более 15 лет. Однажды он провел интересный эксперимент. В качестве подопытных мышей Гольвитцер отобрал группу студентов юридического университета. Цель эксперимента: выяснить, влияют ли публичные заявления о своих намерениях на достижение личных целей.
Для этого Гольвитцер составил список утверждений вроде: “Я собираюсь как можно больше взять от юридического образования”, “Я собираюсь стать успешным адвокатом” и так далее. Каждое из утверждений студенты должны были оценить по шкале от“Полностью согласен” до “Полностью не согласен”.
Опрос проводился анонимно. При желании, можно было написать своё имя. Так же, в опросниках студентов попросили перечислить три конкретные вещи, которые они собираются сделать, чтобы стать успешным адвокатом. Типичными ответами были: “Я намереваюсь регулярно читать юридическую периодику” или что-то в этом роде.
Когда студенты сдали анкеты, Питер Гольвитцер обнаружил, что большинство студентов ответили на вопросы и подписались своим именем. Некоторые вообще не заполнили опросники и сохранили свои намерения в секрете.
Те, кто сохранили свои намерения в секрете…
Студенты не подозревали, что их намерения будут проверять на практике. Они сдали свои анкеты и забыли об этом. Но исследователи во главе с Питером Гольвитцером кое-что задумали…
Психологи выждали некоторое время, а затем искусственно создали ситуацию, чтобы проверить опрошенных “на вшивость” 🙂 Они попросили студентов помочь им в проекте, который требовал анализа двадцати криминальных дел. Студентам сказали, что они должны работать так упорно, как только могут. При этом, у каждого есть право “забить” на помощь и уйти в любой момент.
Криминальные дела были непростыми. Они требовали включения мозгов на полную катушку и усидчивости. Результаты эксперимента были однозначными. Каждый, кто публично огласил в анкете свои намерения на будущее, “слился” с работы. Они уклонились от достижения поставленной цели. И это несмотря на преданность идее построить карьеру в области юриспруденции!
Только те, кто сохранили свои надежды при себе, смогли по-настоящему проделать тяжелую работу и довести начатое до конца.
Почему люди рассказывают окружающим о своих намерениях?
Гольвитцер считает, что это имеет отношение к чувству самоидентификации и целостности. Все мы хотим быть идеальными людьми. Но заявления о наших намерениях тяжело и упорно работать, зачастую, являются чисто символическим актом. Это всего лишь помогает нам самоопределиться со своей ролью. Например: “Я юрист”, “Я писатель”, “Я фотограф”, “Я программист”.
Но ненасытный Питер Гольвитцер провел еще один эксперимент, чтобы дополнительно убедиться в своей правоте. Студентам показали пять фотографий верховного суда. Фотографии отличались размерами. От очень маленькой до очень большой. Испытуемых спросили: “Насколько ты чувствуешь себя классным юристом сейчас?”
Подопытные должны были оценить свою крутость и ответить на вопрос, выбрав одну из пяти фотографий. Чем большую фотографию ты выберешь, тем более завершенным себя чувствуешь.
Никто не удивился когда студенты, которые ранее заявили о своих целях и провалились на практике, склонялись к выбору фотографии побольше. Даже одно только заявление о своих планах стать хорошим юристом, заставило их чувствовать себя так, будто они уже были хорошими юристами. Это увеличило их самомнение, парадоксально уменьшив их возможность к тяжелой работе. Они стали легендами в своём воображении. А легенды не делают пыльную и грязную работу.
Так что, меньше говорите, а больше делайте, достигая ВЕРШИН!