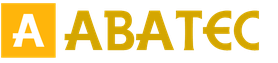Н. Ге. Екатерина II у гроба Елизаветы Петровны
По сути, книгу Казимира Валишевского о Екатерине II следовало бы считать кульминацией всей серии. Именно здесь Россия, по польскому автору, окончательно взошла на востоке Европы. Но так уж вышло, что хронологически «Роман императрицы» был написан им раньше остальных. И наметанный глаз читателя увидит в более поздних книжках кое-какое переосмысление отдельных моментов. Но только местами и кое-какое! В остальном автор, что называется, остается при своих.
Да, пару слов о названии. «Роман императрицы» — красиво, но с практической точки зрения способно оттолкнуть часть аудитории. Кто-то решит, что если уж это и про Екатерину, то точно про какие-то ее шашни с Орловым или Потемкиным. Иначе к чему тут «роман»?
Думается, к тому, что автор имел ввиду вовсе не многочисленных любовников и хахалей императрицы. Речь идет о ее романе с Россией или о красивом жизненном романе. Ну разве не отдает беллетристикой весь путь Софии Фредерики из заштатного разорившегося немецкого герцогства к трону самой богатой империи мира?
Впрочем, о богатстве казны, как и многом другом, автор поговорит без романтики и беллетристики, но с цифрами и документами. Потому как книга всё же не роман, а монография стиля лайт, то есть, как принято писать, «для самой широкой аудитории».
 П. Дрождин. Екатерина II
П. Дрождин. Екатерина II
Любителям военной или внешнеполитической истории придется или пролистать половину книги или запастись изрядным терпением. Мы ведь не рассматриваем вариант «не читать совсем»? «Роман императрицы» распадается на две неравные части – до и после переворота 1762 года. Кстати, по годам жизни Екатерины они почти равны.
Сначала Валишевский дотошно копается в таких незначительных для русских вопросах, как место рождения принцессы, или разбирает байки относительно отца Екатерины. В данном случае это интересно не ответами – какая нам в самом деле разница, что там за родина, Штеттин или Дорнбург. Интересен подход автора к сомнительным и неподкрепленным документами версиям. В противовес легкомысленным любителям сенсаций Валишевский достаточно критичен. И это внушает веру в его добросовестность.
Ранний период еще интересен оценкой личности Петра III. У нас в последние лет двадцать пять модно спорить с традицией, считающей его недалекого ума самодуром, получившим если и не по заслугам, то уж точно по достоинству. Валишевский придерживается более привычной точки зрения – дурак и самодур, вот и весь император Петр III. Как уж такой хитрющей бабе, как Екатерина, было не объехать его?
Впрочем, личность Екатерины Лексевны им же подвергается серьезному разбору. И что мы тут видим? Порушенный образ мудрой правительницы. Недостаточно образованная, ленивая, не умеющая сосредоточиться на главном женщина – вот она, императрица Российская. Почему же у нас сложился иной образ? А, дело-то в контрастах и в рекламе. Вернее, в саморекламе. Любила она порисоваться перед нужными людьми. Ее корреспонденты (старый эквивалент нынешних блоггеров) разносили по Европе образ, созданный императрицей в их мозгу. Вот и весь секрет.
 В. Перов. Суд Емельяна Пугачева
В. Перов. Суд Емельяна Пугачева
Если же разбирать дела царствования, то они не очень-то обличают глубину ума и прозорливости Екатерины II. Большинство крупных дел, начатых с великой помпой, окончились банальным пшиком. И в пшике этом вся царица – типичная непостоянная женщина. Она может быть сколько угодно скромной и милой в быту, но не эти качества украшают правителей. В конце концов, у нас все признают, что Николай II был милейшим человеком, внимательным к окружающим, отличным семьянином, но Россию-то довел до ручки.
Екатерина, скромная в быту, но страшная мотовка на государственном уровне, до ручки державу не довела, но в общем-то положение, строго говоря, было шатким. Как экономическое, так и политическое (внешнее и внутреннее). Наводнившие страну бумажные деньги, на самом деле ничем не обеспеченные, работали только при таком терпеливом народе. Французскую монархию смели с престола куда меньшие сложности. Более-менее яркие победы над турками оставались в глазах Европы всего лишь победами над варварами. А вот, скажем, крохотная Швеция умудрилась поставить под удар саму столицу, Петербург. Да еще макнула в лужу авторитет Балтийского флота.
А уж ослепление стареющей женщины, буквально бабушки, своими фаворитами – тема отдельного разговора Валишевского. Из всей кучи хахалей реально смог выделиться только Потемкин. Остальные как были кучкой ничтожеств. Так ею и остались, несмотря на все старания бабушки вытащить их на самый верх, дать им в руки средства для великих дел. Пренеприятнейшая сторона жизни Екатерины, но из песни слов не выкинешь.
Такая она получилась, книга о Екатерине II. Достаточно критическая и строгая, вытаскивающая на поверхность всё неприглядное и неправильное, поскольку автор отнюдь не руководствовался какими-то патриотическими соображениями.
 А. Боголюбов. Сражение русского флота со шведским в 1790 году вблизи Кронштадта при Красной Горке
А. Боголюбов. Сражение русского флота со шведским в 1790 году вблизи Кронштадта при Красной Горке
Цитата:
«В ожидании будущих блестящих побед, Екатерина в 1783 году завладела пока Крымом. План присоединения к России Таврического полуострова был составлен Безбородко, осуществил его Потемкин, но душой его была всецело Екатерина. Надо был видеть, как она одушевляла своих сотрудников, как побуждала их смело идти вперед, не заботясь о том, что будут говорить о них «ибо время благоприятно, чтобы многое сметь». Это она указала Потемкину на порт Ахтиар, превратившийся в Севастополь. Приемы, при помощи которых было приведено в исполнение это смелое предприятие, были, впрочем, не новы для русской политики. Они были еще раньше испробованы в Польше. В Крыму, как и там, у России была своя партия; эта партия выставила своего кандидата в татарские ханы, как и там свои возвели на престол Понятовского; этот кандидат Шагин-Гирей был избран вопреки оппозиции, воплощавшей, - опять как и в Польше, идею народной независимости, а также и вопреки Турции, после чего Крым был у него куплен за деньги, как покупают теперь англичане владения индийских раджей. И дело было сделано.
Порта хотела протестовать; но союз Екатерины с Иосифом заставил ее до поры до времени придержать язык. Иосиф примирился с совершившимся фактом, надеясь, что в будущем возьмет свое. Но брат его Леопольд сильно взволновался: таким образом Екатерина завладеет теперь и Константинополем, когда пожелает, - говорил он. Но не он был хозяином Австрии. Великий князь Павел тоже был очень встревожен: а что, если Франция посмотрит на дело косо? - Ну, так что ж? - возразила ему на это императрица. Франция, действительно, ограничилась дипломатической демонстрацией: она предложила склонить Порту к признанию присоединения Крыма, под условием обязательства со стороны России не идти дальше и не держать флота в Черном море. Екатерина ответила на это решительным отказом, и тем дело и кончилось. В июне 1787 года Иосифу II, сопровождавшему императрицу в Крым, показали в Севастопольской бухте уже готовую к отплытию эскадру. При виде ее он не мог удержать крика восхищения. А Екатерина, ночуя в Бахчисарае, прежней столице татарских ханов, рассчитала, что отсюда до Константинополя было морем только сорок восемь часов пути.»
КАЗИМИР ВАЛИШЕВСКИЙ
РОМАН ИМПЕРАТРИЦЫ. ЕКАТЕРИНА II
Аннотация
«В предлагаемом вниманию читателей романе вымысел совершенно отсутствует. Даже легендарный элемент занимает в нем лишь строго отмежеванное место, в котором нельзя ему отказать, при желании вызвать к жизни точную картину прошлого. Мы полагаем, однако, как любопытство читателя, так и его любовь к приключениям будут удовлетворены.
Она царствовала, сосредоточив вокруг себя все величие, все счастье и все торжество, а со всех концов Европы поднимался гул удивления и восторга, смешивавшийся с раскатами разразившейся вскоре бури.
Поэты воспевали «северную Семирамиду», философы утверждали, что «свет идет с севера», а изумленная толпа восторженно рукоплескала.
Победоносная за границами своей империи, Екатерина внушала и внутри ее сперва уважение, затем и любовь к себе. В ней воплощались неосознанные еще гений и сила народа; славянская раса неожиданно пышно в ней расцвела и внезапно устремилась гигантскими шагами по пути к величавому своему уделу...» - из предисловия к роману.
Предисловие
В предлагаемом вниманию читателей романе вымысел совершенно отсутствует. Даже легендарный элемент занимает в нем лишь строго отмежеванное место, в котором нельзя ему отказать, при желании вызвать к жизни точную картину прошлого. Мы полагаем, однако, как любопытство читателя, так и его любовь к приключениям будут удовлетворены.
Вторая половина восемнадцатого века, мрачная и бурная, как вечер, насыщенный грозой, была озарена ослепительным видением. Далеко в снегах таинственного Севера занимался свет, подобно восходящей звезде. Над повергнутыми в прах старинными европейскими монархиями возносился трон с византийскими очертаниями, окруженный небывалым величием, и по ступеням его всходила женщина в красном сиянии, цвета пурпура или цвета крови. Она царствовала, сосредоточив вокруг себя все величие, все счастье и все торжество, а со всех концов Европы поднимался гул удивления и восторга, смешивавшийся с раскатами разразившейся вскоре бури. Поэты воспевали «северную Семирамиду», философы утверждали, что «свет идет с севера», а изумленная толпа восторженно рукоплескала. Победоносная за границами своей империи, Екатерина внушала и внутри ее сперва уважение, затем и любовь к себе. В ней воплощались неосознанные еще гений и сила народа; славянская раса неожиданно пышно в ней расцвела и внезапно устремилась гигантскими шагами по пути к величавому своему уделу.
Однако история нам указывает, что эта обаятельная государыня, эта женщина, пред которой преклонялись все державы цивилизованного мира, эта «матушкацарица» коленопреклонно, как икона, чтимая миллионами крестьян, была маленькой немецкой принцессой, попавшей в Россию благодаря случайности. Горсть смелых молодых людей возвела ее на место, откуда она, казалось, диктовала законы всему миру.
Это необычайное происшествие не раз уже рассказано, и не одна рука пыталась начертать образ необыкновенной женщины, игравшей в нем главную роль. Этим попыткам недоставало лишь одного - того, что не в силах заменить собою и талант писателя: твердой документальной основы. За неимением этой опорной точки, дело воссоздания, двадцать раз начатое, двадцать же раз обрушивалось в пустоту и граничило с басней. Час истории в то время еще не настал. Он пробил только теперь. В России и отчасти в Германии историческое прошлое великой славянской империи стало предметом изучения; под эгидой более либерального режима было в первый раз дозволено исследователям подняться до первоисточников. Государственные архивы распахнули свои двери, и частные лица, следуя примеру, данному сверху, поддержали усилия науки, предав гласности тайны своих хранилищ. Таким образом увидели свет столь драгоценные архивы князей Воронцовых. Вследствие естественного порыва, помянутые исследования коснулись главным образом личности Екатерины и великой эпохи, отмеченной ее именем. Результаты почти не оставляют желать ничего лучшего. Более пятидесяти томов сборника, издаваемого Императорским Русским Историческим Обществом, имеют к ней прямое отношение. В различных других коллективных изданиях Екатерина все же занимает первенствующее место.
Все эти элементы научного анализа, отныне столь обильные, требуют синтеза. Он и был уже предпринят в России. Тонкий писатель В.А. Бильбасов издал первый том труда, который, к сожалению, ему пришлось прервать. Екатерина, может быть, еще долго будет ожидать своего историка в стране, обязанной ей самыми славными с границами своей истории. Приступив к предлагаемому труду, появившемуся сначала во Франции, мы не намереваемся предвосхитить задачу, которая, мы надеемся, когданибудь будет решена в России. Мы попытались отразить на этих страницах некоторые общие черты, которые в лице, подобном Екатерине, несомненно, заинтересуют образованное общество всех стран. Женщина, принимавшая участие во всех великих событиях своей эпохи, имевшая сношения со всеми выдающимися людьми своего времени, долго переписывавшаяся с Вольтером и бывшая в дружеском общении с Дидро, прожившая наконец, с точки зрения умственной, нравственной и даже чувственной, жизнь, редкую по полноте, разнообразию и богатству ощущений, подобная женщина не может нигде встретить равнодушною к себе отношения.
Это еще не все. Эта женщина - русская государыня, с которой современная Россия, столь жадно изучаемая, находится в прямой непосредственной связи. Действительно, Екатерина по приезде в свое новое отечество сумела с изумительной гибкостью приспособиться к новой среде, в которой ей пришлось отныне жить; но, в свою очередь и Екатерина на среду эту имела воздействие; она во многих отношениях вылепила ее по своему образцу и наложила на нее неизгладимую печать своей могучей личности. Чтобы проникнуть в тайну великой политической и социальной организации, огромную тяжесть уже начинает чувствовать Европа, следует прежде всего обратиться к Екатерине: современная Россия в большей своей части является лишь наследием великой государыни; к ней же следует обращаться для проникновения в тайны некоторых русских душ: в каждой из них кроется нечто, свойственное Екатерине Великой.
Часть первая
«ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ»
Книга первая
«От Штеттина до Москвы»
Глава первая
Немецкая колыбель. - Детство
I. Место рождения. - Штеттин или Дорнбург? - Спорный вопрос об отце. - Фридрих Великий или Бецкий? - Дом принцев АнгальтЦербстских.
Лет пятнадцать тому назад маленький уголок старинного немецкого городка был охвачен волнением: предполагалось выстроить в этой местности железную дорогу, которая по обыкновению нарушала укоренившиеся привычки, разрушала старые дома и уничтожала сады, где гуляло несколько поколений подряд. Среди предметов, которым угрожало бессердечие инженеров, возбуждавшее отчаяние местных жителей, была липа весьма почтенного вида: она, казалось, была предметом специального культа и особенно жгучих сожалений. Всетаки железная дорога была проведена. Липу не срубили, но ее вырыли из уголка земли, где она пустила корни, и пересадили в другое место. С целью оказания ей большого почета ее посадили против нового вокзала. Она оказалась равнодушной к подобной чести и засохла. Из нее сделали два стола: один из них преподнесли королеве прусской Елизавете, а другой - русской императрице Александре Федоровне. Жители Штеттина называли эту липу «императорской» (Kaiserlinde); если верить их словам, она была посажена немецкой принцессой, называвшейся тогда Софией АнгальтЦербстской, а в просторечии Фигхен (Figchen). Принцесса охотно играла на большой городской площади с резвившимися здесь детьми, впоследствии же, - они хорошенько и не знали, как это случилось, - она превратилась в императрицу всероссийскую под именем Екатерины Великой.
Екатерина действительно провела часть своего детства в этом старом померанском городке. Увидела ли она в нем также свет? Редко случалось, чтобы место рождения великих людей современной истории вызывало те же споры, что возникли в прежние времена вокруг колыбели Гомера. Следовательно, происшедшее в этой области относительно Екатерины является одной из особенностей ее судьбы. Ни в одной приходской книге в Штеттине не сохранилось и следа ее имени. Тот же акт повторился и с принцессой Вюртембергской, супругой Павла I, но ему можно подыскать объяснение: ребенка, вероятно, окрестил священнослужитель лютеранской церкви, ректор или президент не причисленный к приходу. Однако нашлась одна заметка, казавшаяся подлинной и основательной и указывавшая на Дорнбург, как на место рождения и крещения Екатерины. и весьма серьезные историки приводили эти данные в связи с самыми странными предположениями. Дорнбург был родовой резиденцией дома АнгальтЦербстДорнбург - именно семьи Екатерины. Не жила ли там ее мать некоторое время около 1729 г. и не приходилось ли ей часто встречаться с молодым принцем, которому едва исполнилось 16 лег и который недалеко оттуда вел угрюмую жизнь в обществе своего о мрачного отца? Немецкий историк Зугенгейм не побоялся указать на этого молодого принца, известного впоследствии под именем Фридриха Великого, как на «отца инкогнито Екатерины».
Письмо принца ХристианаАвгуста АнгальтЦербстского, официального отца Екатерины, повидимому, лишает это смелое предположение всякого правдоподобия. Оно помечено 2 мая 1729 г., написано в Штеттине, и принц объявляет в нем, что в тот же день, в два с половиной часа ночи у нею родилась дочь в этом городе. Эта дочь не может быть иная, чем та, о которой идет речь. ХристианАвгуст не мог не знать, где родятся ею дети, хотя, может быть, он и не был достаточно осведомлен о том, каким образом они появлялись на свете. Существуют еще и другие доводы. Ничем не доказано, что Дорнбург принимал в своих стенах мать Екатерины незадолго до рождения последней; скорее даже вполне достоверно доказано обратное. Принцесса Цербстская, оказывается, провела часть 1728 года очень далеко и от Дорнбурга и от Штеттина, а именно в Париже. Как известно, Фридрих никогда не был в Париже. Он даже чуть не поплатился головой за одно желание его посетить, как недавно рассказал историк Лависс со свойственным ему тонким талантом.
По воображение историков, даже немецких, неиссякаемо. За отсутствием Фридриха, в 1728 г. в русском посольстве в Париже находился молодой человек, незаконный сын знатной семьи, несомненно посещавший принцессу АнгальгЦербстскую. Следовательно, мы опять напали на след другого романа и другого предполагаемого отца. Этот молодой человек именовался Бецким и стал впоследствии знатным вельможей. Он умер в Петербурге в очень преклонном возрасте; говорят, что, посещая этого старца, которого она окружала заботами и нежным попечением, Екатерина наклонялась над его креслами и целовала его руку. Этого оказалось достаточно для того, чтобы немецкий переводчик «Воспоминаний» Массона пришел к убеждению, которое мы, однако, не можем разделить. Таким образом, пожалуй, не окажется во всей истории восемнадцатого века ни одного знатного рождения, которое не давало бы пищи аналогичным предположениям.
Мы не станем их дольше оспаривать. Женщина, носившая впоследствии имя Екатерины Великой, повидимому, родилась в Штеттине, и ее родители по закону и, поскольку нам известно, по природе были: принц ХристианАвгуст ЦербстДорнбург и принцесса ИоаннаЕлизавета Голштинская, его законная супруга. Наступило время, как мы увидим, когда малейшее деяние эгого ребенка, столь скромно вступившего в жизнь, было отмечено самыми достоверными числами, и жизнь его прослежена день за днем, почти час за часом. Это послужило ей отмщением и вместе с тем мерилом пути, пройденного ее лучезарной судьбой.
Но что представляло в 1729 г. рождение маленькой принцессы Цербстской? Княжеская семья этого имени - одна из тех, которыми Германия кишела в то время, - являлась ветвью Ангальтского дома, насчитывавшего их восемь. До того времени, как неожиданное счастье озарило его небывалым сиянием, ни одно из разветвлений этого корня не потревожило эхо славы. Вскоре окончательное пресечение всего рода подрезало эти зачатки известности. Не имев истории до 1729 г., АнгальтЦербстский дом перестал существовать в 1793 г.
II. Рождение Фигхен (Figchen). - Воспитание немецкой принцессы в восемнадцатом столетии. - Мадемуазель Кардель. - Путешествия и впечатления. - Эйтин и Берлин. - Предсказание.
Родители Екатерины не жили в Дорнбурге. Заботы направили их в другое место. Отец ее должен был зарабатывать свой хлеб (он родился в 1690 г.) и принужден был поступить на службу в прусскую армию. Он воевал с Нидерландами, с Италией, с Померанией, со Швецией и Францией. Тридцати одного года он заслужил эполеты генералмайора; тридцати семи лет он женился на принцессе ИоаннеЕлизавете ГольштейнГотторпской, младшей сестре того самого принца Карла, который чуть было не сел на российский престол рядом с Елизаветой и в лице которого она вечно оплакивала обожаемого жениха. В этом заключалось какоето предопределение. ХристианАвгуст, назначенный командиром пехотного АнгальтЦербстского полка, должен был отправиться в Штеттин, чтобы принять над ним командование. То была настоящая гарнизонная жизнь.
ХристианАвгуст был образцовым супругом и отцом. Он очень любил своих детей. Но, ожидая сына, он был сильно разочарован, когда родилась Екатерина. Первые годы детства Екатерины были этим омрачены. Когда принялись заниматься этим периодом ее жизни. - а заинтересовались им впоследствии страстно, - воспоминания свидетелей его значительно потускнели. Сама она неохотно их освежала, отвечая с непривычной ей скрытностью на предлагаемые ей по этому поводу вопросы. «Я не вижу тут ничего интересного», писала она Гримму, самому смелому ее вопрошателю. Впрочем, и ее воспоминания не отличались точностью. «Я родилась, - говорила она, - в доме Грейфенгейма, на Mariekirchenhof». Однако в Штеттине нет и никогда не было дома этого имени. Командир 8го пехотного полка жил на DomStrasse, в доме № 791, принадлежавшем председателю коммерческого суда в Штеттине, фонАшерлебену. Квартал, где находилась эта улица, назывался Грейфенгаген (Greifenhagen). Дом переменил и номер и владельца. Он принадлежит теперь советнику Девицу и помечен № 1. На одной выбеленной стене замечается черное пятно, являющееся единственным следом, оставленным пребыванием великой императрицы, - то следы дыма от жаровни, зажженной 2 мая 1729 г. около колыбели Екатерины. Сама колыбель исчезла. Она находится в Веймаре.
Часть первая
Великая княгиня
Книга первая
От Щецина до Москвы
Глава первая
Немецкая колыбель. – Детство
/. Место рождения. – Щецин или Дорнбург? – Спорный вопрос об отце. – Фридрих Великий или Бецкий? – Дом принцев Ангальт-Цербстских.
II. Рождение Фигхен (Figchen). – Воспитание немецкой принцессы в восемнадцатом столетии. – Мадемуазель Кардель. – Путешествия и впечатления. – Эйтин и Берлин. – Предсказание.
III. Русско-немецкое свойство. – Русское влияние в Германии; соперничество немцев в России. – Потомство царя Алексея, привитое к двум германским стволам. – Голштиния или Брауншвейг. – Торжество Глизаветы; Петр Ульрих становится ее наследником. – Русский курьер в Цербсте.
I
Лет пятнадцать тому назад маленький уголок старинного немецкого городка был охвачен волнением: предполагалось построить в этой местности железную дорогу которая, по обыкновению, нарушала укоренившиеся привычки, разрушала старые дома и уничтожала сады, где гуляло несколько поколений подряд. Среди того, чему угрожало бессердечие инженеров, возбуждавшее отчаяние местных жителей, была липа весьма почтенного вида: она служила предметом специального культа и особенно жгучих сожалений. Все-таки железную дорогу провели. Липу не срубили, но выкопали из уголка земли, где она пустила корни, и пересадили в другое место. С целью оказать ей большой почет ее посадили напротив нового вокзала. Она проявила равнодушие к подобной чести и засохла. Из нее сделали два стола: один преподнесли королеве прусской Елизавете, другой – русской императрице Александре Федоровне. Жители Щецина называли эту липу «императорской» (Kaiserlinde); если верить их словам, она посажена немецкой принцессой, называвшейся тогда Софией Ангальт-Цербстской, а в просторечии Фигхен (Figchen). Принцесса охотно играла на большой городской площади с другими детьми; впоследствии – они так и не поняли, как это случилось, – она превратилась в императрицу всероссийскую, принявшую имя Екатерины Великой.
Екатерина действительно провела часть детства в этом старом померанском городке. Появилась ли она здесь на свет? Редко случалось, чтобы место рождения великих людей современной истории вызывало те же споры, что возникли в прежние времена вокруг колыбели Гомера. Следовательно, происшедшее в этой области относительно Екатерины принадлежит к особенностям ее судьбы. Ни в одной приходской книге в Щецине не сохранилось и следа ее имени. Тот же факт повторился и с принцессой Вюртембергской, супругой Павла I, но ему можно подыскать объяснение: ребенка, вероятно, окрестил священнослужитель лютеранской церкви, ректор или президент, не причисленный к приходу. Однако нашлась заметка, выглядевшая подлинной и основательной и указывавшая на Дорнбург как место рождения и крещения Екатерины; и весьма серьезные историки приводили эти данные в связи с самыми странными предположениями. Дорнбург – родовая резиденция дома Ангальт-Цербст – Дорнбург, именно семьи Екатерины. Не жила ли там ее мать некоторое время около 1729 года и не приходилось ли ей часто встречаться с молодым принцем, которому едва исполнилось шестнадцать лет и он недалеко оттуда вел угрюмую жизнь в обществе своего мрачного отца? Немецкий историк Зугенгейм не побоялся указать на этого молодого принца, известного впоследствии под именем Фридриха Великого, как на «отца инкогнито Екатерины».
Письмо принца Христиана Августа Ангальт-Цербстского, официального отца Екатерины, по-видимому, лишает это смелое предположение всякого правдоподобия. Оно помечено 2 мая 1729 года, написано в Щецине, и принц объявляет в нем, что в тот же день, в два с половиной часа ночи, у него родилась дочь в этом городе. Эта дочь не может быть иная, чем та, о которой идет речь. Христиан Август не мог не знать, где родятся его дети, хотя, может быть, и недостаточно осведомлен, каким образом они появлялись на свет. Существуют еще и другие доводы. Ничем не доказано, что Дорнбург принимал в своих стенах мать Екатерины незадолго до рождения последней; скорее, даже вполне достоверно доказано обратное. Принцесса Цербстская, оказывается, провела часть 1728 года очень далеко и от Дорнбурга и от Щецина, а именно в Париже. Как известно, Фридрих никогда не был в Париже. Он даже чуть не поплатился головой за одно желание его посетить, как недавно рассказал историк Лависс со свойственным ему тонким талантом.
Но воображение историков, даже немецких, неиссякаемо. За отсутствием Фридриха в 1728 году в русском посольстве в Париже находился молодой человек, незаконный сын знатной семьи, несомненно посещавший принцессу Ангальт-Цербстскую. Следовательно, мы опять напали на след другого романа и другого предполагаемого отца. Этот молодой человек именовался Бецким и стал впоследствии знатным вельможей. Умер в Петербурге в очень преклонном возрасте; говорят, что, посещая этого старца, которого она окружала заботами и нежным попечением, Екатерина наклонялась над его креслами и целовала его руку. Этого оказалось достаточно для того, чтобы немецкий переводчик «Воспоминаний» Массона пришел к убеждению, которое мы, однако, не можем разделить. По этой логике, пожалуй, во всей истории восемнадцатого века не окажется ни одного знатного рождения, которое не давало бы пищи аналогичным предположениям.
Мы не станем их больше оспаривать. Женщина, носившая впоследствии имя Екатерины Великой, по-видимому, родилась в Щецине, и ее родители по закону и, насколько нам известно, и по природе были принц Христиан Август Цербст-Дорнбург и принцесса Иоанна Елизавета Голштинская, его законная супруга. Наступило время, как мы увидим, когда малейшее деяние этого ребенка, столь скромно вступившего в мир, отмечалось самыми достоверными числами; жизнь его прослежена день за днем, почти час за часом. Это послужило ей отмщением и вместе с тем мерилом пути, пройденного ею, яркой ее судьбы.
Но что представляло в 1729 году рождение маленькой принцессы Цербстской? Княжеская семья этого имени – одна из тех, которыми Германия кишела в то время, – являлась одной из восьми ветвей Ангальтского дома. До того времени, как неожиданное счастье озарило его небывалым сиянием, ни одну из них не потревожило эхо славы. Вскоре окончательное пресечение всего рода подрезало эти зачатки известности. Не имев истории до 1729 года, Ангальт-Цербстский дом перестал существовать в 1793 году.
II
Родители Екатерины не жили в Дорнбурге. Заботы направили их в другое место. Отец ее (родился в 1690 году) вынужден зарабатывать свой хлеб и принужден поступить на службу в прусскую армию. Воевал с Нидерландами, Италией, Померанией, с Швецией и Францией. Тридцати одного года заслужил эполеты генерал-майора; тридцати семи лет женился на принцессе Иоанне Елизавете Голштин-Готторпской, младшей сестре того самого принца Карла, который чуть не сел на российский престол рядом с Елизаветой – в лице его она вечно оплакивала обожаемого жениха. В этом заключалось какое-то предопределение. Христиан Август, назначенный командиром пехотного Ангальт-Цербстского полка, должен отправиться в Щецин, чтобы принять командование. То была настоящая гарнизонная жизнь.
Христиан Август – образцовый супруг и отец. Он очень любил своих детей. Но, ожидая сына, был сильно разочарован, когда родилась Екатерина. Первые детские годы Екатерины омрачены этим. Когда принялись заниматься ее детством (а заинтересовались им впоследствии страстно), воспоминания свидетелей уже значительно потускнели. Сама она неохотно их освежала, отвечая с непривычной ей скрытностью на предлагаемые вопросы. «Я не вижу тут ничего интересного», – писала она Гримму, самому смелому своему вопрошателю. Впрочем, и ее воспоминания не отличались точностью. «Я родилась, – говорила она, – в доме Грейфенгейма, на Mariekirchenhof». Однако в Щецине нет и никогда не было такого дома. Командир 8-го пехотного полка жил на Dom-Strasse, в доме № 791, принадлежавшем председателю коммерческого суда в Щецине фон Ашерлебену. Квартал, где находилась эта улица, назывался Грейфенгаген (Greifenhagen). Дом переменил и номер и владельца. Он принадлежит теперь советнику Девицу и помечен номером один. На одной выбеленной стене замечается черное пятно – единственный след, оставленный пребыванием великой императрицы: то следы дыма от жаровни, зажженной 2 мая 1729 года у колыбели Екатерины. Сама колыбель исчезла, она находится в Веймаре.
Названная при крещении Софией Августой Фредерикой, в честь трех своих теток, Екатерина для всех просто Figchen, или Fichchen, как писала ее мать, – по-видимому, уменьшительное от Sophiechen. Вскоре после ее рождения родители переселились в щецинский замок, заняв левое его крыло, находившееся возле церкви. Фигхен отведены три комнаты; из них одна, ее спальня, – рядом с колокольней. Таким образом, ей представилась возможность подготовить свой слух к оглушительному трезвону православных церквей. Может быть, само Провидение это устроило! Там она росла и воспитывалась – весьма просто. Щецинские улицы действительно свидетельницы ее игр с местными детьми, несомненно и не думавшими величать ее по титулу. Когда матери этих детей посещали замок, Фигхен выходила им навстречу и почтительно целовала полы их платья. Таково было желание ее матери, имевшей иногда мудрые мысли. Это, впрочем, случалось с ней нечасто.
Однако у Фигхен много учителей, кроме особой, приставленной к ней гувернантки – конечно, француженки. В то время в каждом более или менее значительном немецком доме служили французские гувернеры и гувернантки – одно из косвенных последствий отмены Нантского эдикта. Преподавали французский язык, французские изысканные манеры и правила вежливости. Учили тому, что сами знали, а знали в большинстве только это. Таким образом у Фигхен появилась мадемуазель Кардель. Кроме того, у нее были французский капеллан Перо (Péraud) и учитель чистописания, тоже француз, Лоран (Laurent). Несколько местных учителей дополняли этот довольно обильный педагогический персонал. Некий Вагнер обучал Фигхен родному языку. Музыкой занимался с ней также немец, Религ (Roellig). Впоследствии Екатерина вспоминала первых воспитателей своей юности с чувством умиленной благодарности, но и с примесью некоторого шаловливого юмора. Она, однако же, отводила особое место мадемуазель Кардель («знавшей почти все, хотя сама она никогда не училась, почти как и ее ученица»), говорившей, что у нее «неповоротливый ум», и каждый день напоминавшей, чтобы она опускала подбородок. «Она находила, что он необыкновенно длинен, – рассказывала Екатерина, – и думала, что, вытягивая его вперед, я рискую толкнуть им встречных людей». Добрая мадемуазель Кардель, вероятно, не подозревала, какие встречи выпадут на долю ее ученицы! Однако она не только выправляла ее ум и заставляла опускать подбородок: она давала ей читать Расина, Корнеля и Мольера и отвоевывала ее у немца Вагнера, его немецкой педантичности, его померанской неповоротливости и от нелепости его «Prüfüngen» , оставивших по себе ужасное впечатление в душе Екатерины. Несомненно, она сообщила ей и долю своего ума – ума парижанки, сказали бы мы сегодня, – живого, острого и непосредственного. А еще, по-видимому, оказала неоценимую услугу, спасая от матери. Не только от пощечин, расточаемых будущей императрице по каждому самому пустячному поводу, повинуясь «не разуму, а настроению», а, главное, от духа, присущего супруге Христиана Августа. Она им заражала всех окружающих – мы с ним познакомимся впоследствии. То был дух интриги, лжи, низких инстинктов, мелкого честолюбия, отражавшего целиком душу нескольких поколений германских мелких князьков. В общем, мадемуазель Кардель вполне заслужила меха, присланные ей ученицей по приезде в Петербург.
Важным дополнением к обставленному таким образом воспитанию служили частые путешествия Фигхен и ее родителей. Жизнь в Щецине не представляла ничего привлекательного ни для молодой женщины, жаждавшей веселья, ни для молодого полкового командира, изъездившего пол-Европы. Поэтому предлоги к путешествиям всегда принимались с радостью, а их находилось немало при наличии большой семьи. Ездили в Цербст, Гамбург, Брауншвейг, Эйтин, встречая всюду родных и не роскошное, но в общем радушное гостеприимство. Доезжали и до Берлина. В 1739 году принцесса София впервые увидела в Эйтине того, у кого ей суждено отобрать престол. Петру Ульриху Голштинскому, сыну двоюродного брата ее матери, тогда было одиннадцать лет, а ей – десять.
Эта первая встреча, прошедшая незаметно, не произвела на Фигхен благоприятного впечатления. По крайней мере, так она утверждала впоследствии в своих воспоминаниях. Он показался ей тщедушным. Ей сообщили, что у него скверный характер и – кажется почти невероятным – он имеет уже пристрастие к спиртным напиткам.
Другое путешествие как будто оставило более глубокий след в ее молодом воображении. В 1742 и 1743 годах в Брауншвейге, у вдовствующей герцогини, воспитавшей ее мать, католический каноник, занимавшийся хиромантией, рассмотрел на ее руке три короны и не увидел ни одной на руке хорошенькой принцессы Бевернской, которую в то время старались выгодно выдать замуж. В поисках мужа наткнуться на корону – вот в чем состояла общая мечта всех этих немецких принцесс!
В Берлине Фигхен увидела Фридриха, но он не обратил на нее внимания, а она в свою очередь им не занималась. Он – великий король на пороге великой карьеры, она лишь девочка, по-видимому предназначенная украшать собой микроскопический двор, затерянный в каком-нибудь уголке империи .
В общем таковы воспитание и вступление в жизнь всех немецких принцесс того времени. Впоследствии Екатерина не без некоторой рисовки подчеркивала пробелы и недостатки этого воспитания. «Что ж, – говаривала она, – меня воспитывали с тем, чтобы я вышла замуж за какого-нибудь мелкого соседнего принца, и соответственно этому меня и учили всему, что тогда требовалось. Ни я, ни мадемуазель Кардель ничего этого не ожидали». Баронесса Принтен, статс-дама принцессы Цербстской, говорила не обинуясь, что, пристально следя за ходом учения и успехами будущей императрицы, не обнаружила в ней никаких особенных качеств и дарований. Предполагала, что Екатерина будет «заурядной женщиной». Мадемуазель Кардель также не подозревала, по-видимому, что, поправляя тетради своей ученицы, служит, как однажды выразился восторженный Дидро, «подсвечником, носящим свет ее эпохи».
III
Однако в этой скромной жизни есть нечто, что приближало принцессу Софию к ее будущей судьбе. Она лишь маленькая немецкая принцесса, воспитывавшаяся в маленьком немецком городке, окруженном жалкой, печальной, несчастной действительностью. Но близкое соседство отбрасывало на него гигантскую тень, похожую на привидение или чарующий мираж. В этой провинции еще незадолго до того по городу расхаживали солдаты, демонстрируя странные мундиры и нарождающийся престиж державы, а недавно Россия появилась в Европе и внушала уже удивление и ужас, возбуждала беспредельные опасения или надежды. В самом Щецине подробности осады, которую недавно пришлось выдержать от великого Белого царя, оставались у всех в памяти. В семье Фигхен Россия, огромная и таинственная Россия, ее бесчисленное войско, неисчерпаемые богатства, самодержавные государи служили постоянной темой домашних разговоров, к которым присоединялась, может быть, и некоторая доля вожделений и даже смутное предчувствие. Почему бы и нет? Вследствие браков, соединивших дочь Петра I с принцем Голштинским, внучку Иоанна, брата Петра, с герцогом Брауншвейгским, целая сеть взаимных нитей и притяжений образовалась между великой северной державой и многочисленным племенем хилых немецких княжеств. Семья Фигхен оказалась особенно втянутой в эту сеть. Когда в 1739 году, в Эйтине, Фигхен встретила своего троюродного брата Петра Ульриха, она узнала, что мать его – русская царевна, дочь Петра Великого. Узнала и историю другой дочери Петра Великого, Елизаветы, едва не ставшей невесткой ее матери.
Вдруг разнеслась весть о восшествии на престол этой самой принцессы, печальной невесты принца Карла Августа Голштинского. Девятого декабря 1741 года Елизавета посредством одного из переворотов, становившихся частыми в истории северной дворцовой жизни, положила конец царствованию малолетнего Иоанна Брауншвейгского и регентству его матери. Каков же отклик этого события в семейном кругу, где росла Екатерина! Разлученная жестокою судьбой с избранным ею супругом, новая императрица сохранила трогательное воспоминание не только о молодом принце, но и о всей его семье. Незадолго еще до того она просила прислать портреты братьев покойного принца. Очевидно, не могла забыть и его сестру. В то время мать Фигхен, несомненно, припомнила предсказание каноника-хироманта. Как бы то ни было, она не замедлила написать двоюродной сестре и принести ей свои поздравления. Ответ на них способен поощрить нарождающиеся надежды. Елизавета ответила не только любезно, но и нежно, объявляя себя очень тронутой вниманием, и просила прислать портрет своей сестры, принцессы Голштинской, матери принца Петра Ульриха. Собирала, по-видимому, коллекцию портретов. Не крылось ли в этом какое-то таинственное указание?
Тайна вдруг раскрылась. В январе 1742 года принц Петр Ульрих – «ча́ртушка», как обыкновенно звала его императрица Анна Иоанновна, которую беспокоило его слишком близкое родство с русским царствующим домом, – маленький троюродный брат, мельком виденный Фигхен, исчез из Киля и появился через несколько недель в Петербурге: Елизавета вызвала его, чтобы объявить своим наследником.
Это событие не оставляло места сомнениям. В России, бесспорно, взяла верх голштинская кровь, кровь матери Фигхен, и восторжествовала она над брауншвейгской кровью. Голштиния или Брауншвейг, потомство Петра Великого или потомство его старшего брата Иоанна, умерших без прямых наследников мужского пола, – вся история русского царствующего дома с 1725 года заключалась в этой дилемме. По-видимому, торжествовала Голштиния, и тотчас же счастье нового императорского принца, едва установившись, начало отражаться на его скромных родственниках в Германии. Лучи его достигли и Щецина. В июле 1742 года отец Фигхен был возведен Фридрихом в чин фельдмаршала – любезность, по-видимому, по адресу Елизаветы и ее племянника. В сентябре секретарь русского посольства в Берлине привез самой принцессе Цербстской портрет государыни, обрамленный великолепными бриллиантами. В конце того же года Фигхен отправилась с матерью в Берлин, где знаменитый французский художник Пэн написал ее портрет. Фигхен знала, что этот портрет отправят в Петербург, где любоваться им будет не одна императрица.
Однако целый год прошел без каких-либо решительных событий. В конце 1743 года вся семья собралась в Цербсте. Вследствие пресечения старшей ветви незадолго перед тем цербстский престол перешел во владение родного брата Христиана Августа. Весело отпраздновали Рождество среди небывалого комфорта и веселых предположений насчет будущего, не говоря уже о более смелых мечтаниях. Не менее весело начали и Новый год – эстафета, прискакавшая во весь опор из Берлина, заставила вскочить со стульев не только порывистую Иоанну Елизавету, но и ее более сдержанного супруга. На этот раз оракулы оказались правы – хиромантия торжествовала блестящую победу: эстафета привезла письмо от Брюммера, гофмейстера великого князя Петра, бывшего Петра Ульриха Голштинского. Письмо это, адресованное Иоанне Елизавете, приглашало ее немедленно пуститься в дорогу вместе с дочерью, с тем чтобы посетить императорский двор либо в Петербурге, либо в Москве.
Глава вторая
Прибытие в россию. – Свадьба
I. Выбор будущей императрицы. – Соперничество и интриги. – Роль Фридриха II.
II. Отъезд в Россию. – Путешествие. – От Берлина до Риги. – Россия обрисовывается. – Поезд родственницы императрицы. – Императорские сани. – Приезд в Петербург.
III. От Петербурга до Москвы. – Прием Елизаветы. – Уверенность в успехе. – Политические предприятия принцессы Цербстской. – Борьба с Бестужевым.
IV. Великий князь. – Воспитание кандидата на престол России и Швеции. – Два немецких преподавателя – Брюммер и Штелин. – Дебют Фигхен. – Она учится русскому языку. – Болезнь и выздоровление. – Религиозный вопрос. – Пастор или русский священник?
V. Мать Фигхен намеревается управлять Россией. – Непредвиденная опасность. – В Троице-Сергиевой лавре. – Катастрофа. – Отозвание Шетарди. – Торжество Бестужева. – Портрет Елизаветы.
VI. Обращение принцессы Софии в православную веру. – Сопротивление Христиана Августа. – Публичное исповедание. – Обручение. – Екатерина Алексеевна. – Путешествие в Киев. – Мать и дочь. – Жених и невеста. – Болезнь великого князя. – Жизнь в Петербурге. – Граф Гилленборг. – Пятнадцатилетний философ.
VII. Свадьба. – Церковные и придворные торжества. – Апартаменты новобрачных. – Морская церемония: «дедушка русского флота». – Отъезд принцессы Цербстской.
I
Брюммер – старинный знакомый принцессы Иоанны Елизаветы. Как гувернер великого князя, он, по всей вероятности, сопровождал своего воспитанника в Эйтин. Письмо его пространно и исполнено подробных указаний. Принцессе следует собраться возможно скорее; свита ее, сокращенная до минимума, должна состоять из одной статс-дамы, двух горничных, одного офицера, повара и двоих или троих лакеев. В Риге ее ожидает приличная свита, которая и проводит до места пребывания двора. Мужу строго воспрещено ее сопровождать. Ей надлежит хранить цель своего путешествия в глубокой тайне. На расспросы следует отвечать: едет к императрице, с тем чтобы поблагодарить ее за оказанные милости. Ей разрешалось, однако, открыться Фридриху II – ему все уже известно. К письму приложен чек на имя одного берлинского банкира, предназначенный на покрытие путевых расходов. Сумма скромная – десять тысяч рублей, но, по словам Брюммера, важно не возбуждать подозрений присылкой более значительного куша. Переступив границу России, принцесса ни в чем нуждаться не будет.
Разумеется, Брюммер посылает это приглашение, похожее на приказание, и властные инструкции от имени императрицы. Впрочем, он не пояснял намерений государыни. Другой человек взял на себя этот труд. Через два часа после приезда первого курьера прискакал второй и привез письмо от прусского короля. Фридрих все объяснял. Впрочем, приписывал себе решение, принятое Елизаветой, остановившей свой взор на молодой принцессе Цербстской. Он в это дело действительно вмешался, и вот каким образом.
Матримониальные вожделения, конечно, не замедлили возгореться вокруг «чертушки», ставшего наследником лучезарной короны. Тут и бывший гувернер великого князя немец Брюммер, и лейб-медик императрицы француз Лесток. Каждое значительное лицо, игравшее определенную роль при дворе, который превосходил по интригам все дворы Европы, имело свою кандидатку и партию, ее поддерживавшую. Заходила поочередно речь о французской и саксонской принцессах, дочери польского короля, о сестре короля прусского. Саксонский проект, поддерживаемый всемогущим канцлером Бестужевым, имел одно время наибольшие шансы на успех.
«Саксонский двор, – писал впоследствии Фридрих, – будучи раболепным слугой России, намеревался пристроить принцессу Марианну, вторую дочь польского короля, с целью усилить свое влияние… Русские министры, настолько алчные, что, кажется, способны торговать самой императрицей, продали преждевременно свадебный контракт: получили щедрые дары, а король польский – лишь слова…»
Принцесса Саксонская, шестнадцати лет от роду, тщательно воспитанная, представляла подходящую партию; к тому же этот брак мог послужить основанием обширной комбинации, имевшей целью, согласно замыслам Бестужева, объединить Россию, Саксонию, Австрию, Голландию и Англию, то есть три четверти Европы, против Пруссии и Франции. Эта комбинация не удалась, и неудаче ее всеми силами способствовал Фридрих. Однако он отказался расстроить эти планы кандидатурой своей сестры принцессы Ульрики, которая пришлась бы по вкусу Елизавете. «Жестоко, – говорил он, – принести в жертву эту принцессу». На некоторое время он предоставил своего посланника Мардефельда его собственным, довольно ограниченным силам и силам его французского коллеги де ла Шетарди, также не особенно значительным в то время. Мардефельд находился в немилости с некоторых пор, и Елизавета подумывала даже заставить его отозвать. Что касается де ла Шетарди, то, сыграв значительную роль при восшествии на престол новой императрицы, он сделал ошибку и не сохранил за собой завоеванного положения. Он оставил свой пост и, вернувшись на него, не нашел уже прежних привилегий. Впрочем, французское правительство его не поддерживало и заставляло поминутно требовать инструкций. Он даже спрашивал себя: может быть, король все так же настроен против сделанных им после восшествия на престол императрицы намеков на возможность брака великого князя с одной из сестер короля?
Однако Фридрих не дремал. Мысль об отправке в Петербург портрета, написанного Пэном в Берлине, исходила от него. Одному из братьев матери Фигхен, принцу Августу Голштинскому, поручили преподнести его царице. Портрет, по-видимому, неважный – Пэн уже состарился. Однако он пришелся по вкусу императрице и ее племяннику. В решительную минуту, в ноябре 1743 года, Мардефельд получил приказание без колебаний выдвинуть на роль невесты принцессу Цербстскую или, если она не понравится, одну из принцесс Гессен-Дармштадтских. Не пользуясь личным влиянием, прусский агент и его французский коллега решили заручиться помощью двух упомянутых нами лиц, Брюммера и Лестока, и, по свидетельству де ла Шетарди, результатом этого союза стала победа. «Они представили государыне, что принцесса из влиятельного дома не окажется достаточно покладистой… Они также ловко воспользовались некоторыми духовными лицами, чтобы внушить ее величеству, что вследствие незначительного различия между обеими религиями католическая принцесса будет опаснее и в этом смысле». Может быть, орудуя дальше в этом направлении, они подчеркнули и наличие сговорчивого отца в лице принца Цербстского, который, по словам Шетарди, «был славным малым сам по себе, хотя и необыкновенно ограниченным». Словом, в первых числах декабря Елизавета поручила Брюммеру написать письмо, взволновавшее несколько недель спустя мирный двор, где Екатерина росла под строгим надзором мадемуазель Кардель.
II
Сборы принцессы Елизаветы и ее дочери своею поспешностью удовлетворили бы Брюммера. Никто и не думал о составлении приданого для Фигхен. «Два или три платья, дюжина сорочек, столько же чулок и носовых платков» – вот все, что она взяла из родительского дома. Раз обещано, что в России ни в чем недостатка не будет, к чему тратиться? Впрочем, и времени на то нет. Фридрих и Брюммер слали письмо за письмом, настаивая на скором отъезде. Между тем торопить принцессу Иоанну Елизавету незачем. «Ей недостает только крыльев, чтобы скорее лететь», – писал Брюммер Елизавете. Впрочем, по-видимому, принцесса и не намеревалась окружать особенным блеском первое появление своей дочери в России. Перечитывая ее переписку с Фридрихом в ту минуту, удивляешься, как мало внимания она уделяла будущей великой княгине. Возникает вопрос: действительно ли речь идет о свадьбе Фигхен и предпринимаемое путешествие в Россию имеет ли в самом деле эту цель? Можно усомниться. Иоанна Елизавета едва даже намекает на это. Главным образом думает о себе, о возникающих в голове великих планах, которые она намеревается развернуть на достойной ее умения арене, об услугах, которые собирается оказать своему державному покровителю и за которые, как будто загодя, требует достойного вознаграждения. В этом смысле намеревалась она действовать и в Петербурге и в Москве.
Знала ли Фигхен, о чем шла речь и в каких целях, добрых или дурных, ей приказывали укладываться? Этот пункт спорный. Несомненно, догадывалась, что путешествие не простая экскурсия, подобно предпринятым ранее в Гамбург или Эйтин. Продолжительность и горячность споров между отцом и матерью перед отъездом, необычайная торжественность проводов и прощание дяди, принца Иоанна Людвига, даже небывало роскошный подарок (великолепная голубая материя, затканная серебром), которым он сопроводил последние свои излияния, – все это предвещало необыкновенные события.
Отъезд состоялся 10 или 12 января 1744 года, без каких-либо инцидентов. В ратуше в Цербсте до сих пор еще показывают чашу, из которой будто бы принцесса Иоанна Елизавета пила за здоровье именитых граждан, торжественно собравшихся, чтобы пожелать ей счастливого пути. Вероятно, это лишь легенда. Однако в минуту отъезда случилось одно происшествие. Нежно поцеловав дочь, принц Христиан Август вручил ей толстую книгу, с просьбой тщательно беречь и добавив с таинственным видом, что ей вскоре придется к этой книге прибегнуть. Одновременно передал и жене рукопись, с тем чтобы отдала ее дочери, после того как сама прочтет и тщательно обдумает содержание. Книга эта – трактат Гейнекция о греческой религии. Рукопись, плод ночных размышлений Христиана Августа, озаглавлена «Pro memoria»; он пытался выяснить в ней вопрос: может ли Фигхен каким-нибудь образом стать великой княгиней, не меняя религии? Это главная забота Христиана Августа и предмет супружеских споров, привлекших внимание Фигхен и сопровождавших приготовления к отъезду. Христиан Август оказался непоколебимым в этом вопросе, меж тем как Иоанна Елизавета гораздо более склонна признать необходимость, нераздельную с новой судьбой дочери. Почему-то отец Фигхен пожелал лично дать дочери оружие против искушений, оскорблявших его. Труд Гейнекция и долженствовал служить этой цели.
То была тяжелая крепостная артиллерия. «Pro memoria» заключала соображения и советы другого порядка, в которых отражались практический ум, свойственный самым возвышенным немецким душам, и мелочные привычки двора, подобного цербстскому или щецинскому. Она советовала будущей великой княгине оказывать крайнее уважение и беспрекословное повиновение тем, от кого зависела отныне ее судьба; превыше всего ставить желания супруга; избегать слишком интимного сближения с кем бы то ни было из окружающих лиц. В приемных залах не разговаривать ни с кем в отдельности. Беречь свои карманные деньги, дабы не подпасть под власть гофмейстерины. Наконец, в особенности не вмешиваться в дела управления. Все это изложено на жаргоне, представляющем любопытный образчик обычного языка эпохи, того немецкого языка, который Фридрих презирал не без причины, судя по следующему отрывку: «Nicht in familiarité oder badinage zu entriren, sondern allezeit einigen égard sich conserviren. In keine Regie-rungssachen zu entriren, um den Senat nicht aigriren». И так далее.
В архиве Зимнего дворца сохранились воспоминания Екатерины об этом периоде своей жизни, написанные ею и отданные графине Брюс. В царствование Николая I граф Д. Н. Блудов, председатель Государственного совета, отыскал их (см: Бильбасов В. А. История Екатерины II. Т. 1. СПб., 1890. С. 1–4).
Роман императрицы
Описание: Другие названия: Роман императрицы. Екатерина II, Роман одной императрицы, Екатерина II
Роман, 1892 год
Просвещенная монархиня, Северная Семирамида, мудрая Фелица - это всё о ней, царице Екатерине II. Державин и Ломоносов слагали ей оды, Карамзин прославил в «Истории Государства Российского», Дидро и Вольтер гордились ее дружбой, а Суворов вел в сражения полки с ее именем на устах...
Эта книга о великой Императрице, жившей во благо России: при ней строились города, открывались школы и университеты, расширялись границы государства, богатела казна, процветали науки и искусства.
Эта книга о непростой Личности - властной с сановниками и сердечной к людям, честолюбивой на престоле и снисходительной к ближним, непоколебимой в государственных делах и гибкой в политике, купавшейся в роскоши и аскетичной в быту, любившей самых красивых мужчин и менявшей любовников, как перчатки, но всегда остававшейся, даже для своих фаворитов, прежде всего Великой Государыней…
ПРЕДИСЛОВИЕ
КНИГА ПЕРВАЯ ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОТ ШТЕТТИНА ДО МОСКВЫ
Глава 1 Немецкая колыбель. Детство
Глава 2 Прибытие в Россию. Свадьба
Глава 3 Вторичное воспитание Екатерины
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПО ПУТИ К ЗАВОЕВАНИЮ ВЛАСТИ
Глава 1 Молодой двор
Глава 2 Борьба за престол
Глава 3 Победа
КНИГА ВТОРАЯ ИМПЕРАТРИЦА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА
Глава 1 Внешность. Характер. Темперамент
Глава 2 Ум. Остроумие. Образование
Глава 3 Идеи и принципы
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГОСУДАРЫНЯ
Глава 1 Искусство царствовать
Глава 2 Внутренняя политика. Охрана. Законодательство. Администрация
Глава 3 Внешняя политика
КНИГА ТРЕТЬЯ ЛИЧНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬНИЦЫ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ДРУГ ФИЛОСОФОВ
Глава 1 Любовь к литературе, искусству, науке
Глава 2 Екатерина как писательница: драматург, романист, баснописец, публицист, поэт
Глава 3 Екатерина в роли педагога
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЕКАТЕРИНА В ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
Глава 1 Екатерина у себя дома
Глава 2 Семейная жизнь. Великий князь Павел Петрович
Глава 3 Интимная жизнь Екатерины. Фаворитизм
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
| ВНИМАНИЕЕ!!! ПОЛНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ДОСТУПЕН ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ БЛОКИРОВЩИКЕ РЕКЛАМЫ. И ЭТО НЕ НАША ИНИЦИАТИВА. | ||
| Нет окна | Нет окна для прослушивания онлайн - напишите об этом в комментарии к книге. | |